Дмитрий Юдкин Рассказ “Июльская спэка” Часть первая
 По дороге, вниз с горы, шла пожилая женщина. Невысокого роста, грузноватая, с простым русским лицом, похожее на которое можно часто встретить на улицах городов и сел средней полосы России. Овальное, нос картошечкой. Простое лицо, обыкновенное, ничем не запоминающееся, если бы не глаза. Глаза у этой пожилой женщины были особенными. Вестимо, сейчас уже поблекшие цветом, но, в молодости ярко лучившиеся встречным людям теплым приветом. Голубым-голубым. Словно небо над морем в ясный погожий день. Однако отнюдь не в названной только что причине заключалась их исключительность. Не в прошлой силе, не в особой какой-то их красоте. Ибо, красота человеческая, как известно, подвластна безжалостному времени непререкаемо. В них понималось особенным другое. Они были невероятно живыми, будто не одни лишь глаза, самое душа смотрела. Именно этим они невольно приковывали к себе внимание встречного взгляда. Смотрела тебе в глаза и говорила с тобой беззвучно, на понятном тебе и без слов языке. Душа – добрая и приветливая, открытая навстречу людям. Такие глаза сегодня уже редко встретишь, намного реже, чем даже завораживающе красивые.
По дороге, вниз с горы, шла пожилая женщина. Невысокого роста, грузноватая, с простым русским лицом, похожее на которое можно часто встретить на улицах городов и сел средней полосы России. Овальное, нос картошечкой. Простое лицо, обыкновенное, ничем не запоминающееся, если бы не глаза. Глаза у этой пожилой женщины были особенными. Вестимо, сейчас уже поблекшие цветом, но, в молодости ярко лучившиеся встречным людям теплым приветом. Голубым-голубым. Словно небо над морем в ясный погожий день. Однако отнюдь не в названной только что причине заключалась их исключительность. Не в прошлой силе, не в особой какой-то их красоте. Ибо, красота человеческая, как известно, подвластна безжалостному времени непререкаемо. В них понималось особенным другое. Они были невероятно живыми, будто не одни лишь глаза, самое душа смотрела. Именно этим они невольно приковывали к себе внимание встречного взгляда. Смотрела тебе в глаза и говорила с тобой беззвучно, на понятном тебе и без слов языке. Душа – добрая и приветливая, открытая навстречу людям. Такие глаза сегодня уже редко встретишь, намного реже, чем даже завораживающе красивые.
Одета она была в светлую рубашку навыпуск с коротким рукавом, темно-синюю юбку, на ногах – белые сандалии, обутые на босу ногу.
Шла женщина довольно ходко, но несколько вразвалочку, как ходят уточки. В правой руке она несла полипропеленовую клетчатую сумку. Судя по тому, с какой невесомостью сумка болталась в ее руке – совершенно пустую. Звали женщину: Любовь Алексеевна Мякишева. Соседи по улице кликали ее Алексеевной, будем называть нашу героиню так и мы.
Алексеевна спешила. Шла настолько быстрым шагом, насколько позволяло ей состояние ее здоровья. Натруженные за нелегкую рабочую долю ноги, перевитые синюшными варикозными венами, еще не отказывались служить хозяйке, неся ее по пыльной дороге, с высовывающимися из толщи желтоватого глинозема кусками мергеля. Старая дорога. Проложенная очень давно, еще первопоселенцами города. На всем ее протяжении, с боков к ней сбегались улицы более благоустроенные, асфальтированные и гладкие. Одна она такая, будто где в селе. Идти по ней в дождь Алексеевна ни за что не решилась бы. Дорога тогда делалась скользкой, расползающейся под ногой. Но к магазину около Богдановского моста старая дорога была самой короткой и прямой.
На протяжении всего пройденного пути Алексеевну донимало странное чувство. Сызмальства родные улицы, почему-то казались неузнаваемыми, будто плохо, второпях, когда-то изученными. Хотя ходила Алексеевна по ним все шестьдесят семь лет своей жизни. Здесь прозвенело счастливым смехом ее детство, отцвело девичество, полноводно протекли зрелые года, здесь же настигла Любу Мякишеву старость. Но многое сейчас тут дышало чужим, вызывающим это странное чувство неузнаваемости. Обострялось оно от того, что некоторые дома стояли пустыми после отъезда хозяев. Посеревшие, с потускневшими красками, налетом сиротства, проступившим на стенах, они выглядели как вполне живые существа, скорбящие от прихода в родной край беды. И беды большой. То тут, то там виделись ее признаки совсем явственно. Воронки в дороге и по ее обочинам, выдолбленные снарядами и минами, изодранные рванными ранами заборы, зияющие сквозной пустотой оконные проемы, посеченные осколками стены. Местами в строениях наблюдались разрушения и куда серьезнее.
Любовь Алексеевна жила в городе Луганске, и было сейчас лето 2014 от Рождества Христова. На Украине третий месяц гремела Гражданская война. Хотя в официальных источниках информации подобным образом нигде ее не именовали. Придумывали ей другие названия и обозначения. Боялись этих слов что ли? Попутно замечу, большинство простых жителей Украины воспринимали начавшуюся войну отнюдь не однозначно, слишком много чего в ней было непонятного. Даже Алексеевна, внимательно следившая за любыми, даже мало-мальски значимыми новостями, касающимися этой темы, не во всем могла разобраться, чтобы быть уверенной в своих мыслях наверняка. Хотя определенное мнение по поводу происходящего у нее все-таки сложилось. Новое Киевское руководство, дорвавшееся до власти в результате государственного переворота, проводило на Юго-Востоке страны карательную акцию, лукаво именуемую дикторами Украинского телевидения антитеррористической операцией, в сокращении обозначающуюся ими, как АТО. Войска Киевской хунты ожесточенно штурмовали города Луганской и Донецкой областей. Бои шли под Славянском, около Северодонецка, Горловки, Лисичанска, на подступах к Луганску и Донецку.
Женщина остановилась. Закололо в правом боку, в межреберной области. Хватая широко открытым ртом, накаленный жарким июльским солнцем, воздух, она пощупала бок, слегка надавливая на него кончиками пальцев. Вынула из кармана рубахи носовой платок. Провела им несколько раз по разгоряченному лбу, промокая обильно выступивший на коже пот.
Алексеевна направлялась в магазин. Ей надо купить хлеб, сливочное и подсолнечное масло, творог, гречку, кефир, яйца. Это обязательный список, а об остальном нужном ей товаре сориентируется на месте. Более близкий к ее дому магазин оказался закрыт, теперь требовалось спуститься на две улицы ниже.
Палило жаром, плавящееся в зените солнце. Второй час дня. Сейчас самая жара. По-украински прозвучало бы даже более выразительно – спэка.
Немного передохнув, Алексеевна тронулась в дальнейший путь. Уже осторожнее, шибко не разгоняясь, из опаски растревожить затихшую в теле боль. На всякий случай, ее ладонь оставалась лежать плотно прижатой к правому боку. Тоже своего рода анестезия.
– Люба! – раздался женский голос из-за зарослей кустарника калины, росшего понад дорогой.
Женщина оглянулась. Немного на их улице осталось людей, которые могли так ее называть, совсем немного. Обычно или Алексеевна, или бабушка Люба, чаще, производным от нее – баб Люб.
– Любочка, родненькая, подь сюда! – снова окликнул ее тот же голос.
Естественно, она узнала голос, хотя и не видела, из-за буйства зеленной листвы, человека звавшего ее. Хорошо знала она и этот дом, от которого над верхушкой куста она видела сейчас лишь верхнюю часть фасада и черепичную крышу. Причем, знала всегда, сколько здесь живет, а это, получается, всю жизнь.
Женщина свернула на тропинку ко двору, где жила Анна Захаровна Сазонова.
На лавочке, опираясь двумя руками на клюку, в темных одеждах, с повязанным на голове, выцветшим на солнце голубым платком, сидела тучная старуха. Было Захаровне что-то малость за девяносто. Она и сама, пожалуй, точно не помнила свои года.
– Здравствуй, Захаровна! Как здоровьичко? – поприветствовала Алексеевна, улыбнувшуюся ей беззубым ртом старуху.
– Какое мне здоровье, Любочка, когда такое горе на белом свете деется? Не приведи Господи! Рази мы могли подумать, что война проклятая к нам опять придеть? Жили, жили себе… И нехай бы с тем же германцем опять воевать, или с американцем, или с кем другим, а то со своими… Позавчера что деялось? Армагеддон! Думала, прямехонько бомбой в дом угодят, тут и конец всей моей жизни бесталанной придеть. Стояла на коленях перед иконой Казанской Божией Матери и молилась, слезами умывалась. Помиловала Царица Небесная, отвела от дома беду… Что деется? Чем кару такую заслужили?
– Какие они нам свои, после того, что с городом нашим сотворили? Фашисты – они и есть фашисты! – поправила старуху Алексеевна.
– И то, правда! Я уже и не соображу ничего… А впрямь, фашисты! По городу с мирными людьми, с детишками малыми и стариками из пушек и зениток палят. Самые германцы, что ни на есть, не русские…
Поняв, что одинокая старуха настроена на долгую беседу по душам, Алексеевна виновато прокашлявшись, сказала:
– Захаровна, ты прости меня, сердешная, некогда мне… Дома внучка трехлетняя осталась. Девчонка соседская обещалась присмотреть, а станет присматривать или нет – одному Богу ведомо… Поспешать надо. В магазин и обратно…
– В магазин?.. Любочка, мне хлебушка нужно, колбаски немножко, да каких-нибудь карамелек к чаю… Я уж до магазина так-так едва доковыляю, а вдруг бомбы начнут кидать, и забечь от них никуда не сумею, с моим-то весом и здоровьем – и вовсе мне сразу погибель, на месте, где поблизости бомбой вдарять, там смерть и приму… Любочка, может, выручишь, купишь продукт для меня? – жалобным голосом говорила старуха, не забыв скороговоркой дополнить: – А денежка на расходы имеется… До копеечки дам… – и она откинувшись спиной к забору, вынула из кармана вязанной кофты, одетой на ее тело поверх шерстяного платья, потертый кожаный кошелек.
– Конечно, Захаровна, куплю. Какой тебе колбаски?
– Хорошо бы «Докторской». Давно хотелось… С полкило гдесь…
Взяв деньги, Алексеевна вышла на дорогу и пошла вниз. Идти ей почти до самой дамбы, насыпанной на берегу Лугани.
Магазин, вернее, магазинчик наличествовал в виде однокомнатного флигелька, выложенного из красного кирпича, с крышей накрытой шифером. С левого края не хватало одного листа. Вероятно, сорвало при последнем обстреле. Подойдя поближе, Алексеевна увидела и воронку, разворотившую неправильным кругом асфальт. От магазина всего в нескольких метрах. Похоже, мина. Чуть-чуть не долетела.
Поднявшись по ступеням, отталкиваясь правой рукой от стальной трубы перил, Алексеевна потянула дверь за ручку. Внутри магазина звякнул колокольчик, сигнализируя о приходе нового покупателя.
В помещении магазина играла музыка. Она лилась из радиоприемника, пристроенного на стеклянную витрину. Музыка играла тихо, с улицы, из-за закрытой двери ее было не слышно. Молодой приятный голос невидимой певицы на волнах радио-эфира вокально сообщал аудитории, что восемнадцать ей уже.
Перед прилавком стояла небольшая очередь, в три человека. Все они были Алексеевне знакомы. Местные, камбродские. Впереди –Ирка Ифанова, полногрудая молодуха лет двадцати пяти, за ней Прокофьев дед, замыкал очередь Витька Левченко – записной пьяница и бездельник.
Ирке что-то взвешивали на весах. Похоже на сахар. Она и продавщица, с совком приподнятым над пакетом, обе смотрели на качающуюся стрелку, прыгающую между рисками делений. Прокофьев стоял в очереди, опустив задумчиво голову, поглаживая ладонью правой руки белую, как лунь, от седины бороду. Лишь один Витька Левченко выглядел довольным, и беспечно улыбался. Почему-то ему было беспечально. И война ему будто не война. Повернувшись к Алексеевне, он улыбнулся и ей, персонально.
При его широкой улыбке, изо рта у него вырвался выхлоп застарелого перегара. Женщина невольно отстранилась, отвернув от неприятного запаха нос.
– Алексеевна, дом твой цел? Ничего в гости к тебе не прилетело?
И улыбался. Беспечно и широко. Смотря на нее из-под полузакрытых век.
Она улыбнулась ему в ответ, едва разомкнувшимися в улыбке губами. Витька был безобидным алкоголиком, тихим. В пьяном виде никогда на улице не бузил, ни с кем не дрался. Повсеместно со всеми без исключения был приветлив и тих. Пил только почти каждый календарный день.
– Цел, Витя, цел… Господь миловал!
– А у меня крышу пробило и половину стены вынесло. Прилетел незваный гость позавчера. Дом после этого потрескивает. Несущие балки, похоже, удвоившейся нагрузки не выдерживают… Неровен час – рухнет весь… Поселился временно у Женьки Евстратова. Сам он сейчас, один-одинешенек. Жена с детьми уехали к родителям в Полтаву… А со своим домом пока не могу разобраться как быть… Ремонтировать? Так, опять вдруг прилетит, и деньги, в общей сумме, на ветер…
«Пропивать – получается, не на ветер, а ремонтировать собственное жилье – на ветер. Мудрое рассуждение» – не без иронии отметила про себя женщина. Вслух же сказала следующее:
– Конечно, обожди, Витя, с ремонтом… Чего его посреди войны затевать?
Витька, в самом деле, неплохой был человек, хоть и непутевый. Сломало его по судьбе. Жена несколько лет тому назад его бросила. Подло, совсем для него неожиданно, врасплох. Всего-то, нашла мужика побогаче, посноровистее и поизворотливее в прохождении хитромудрыми житейскими лабиринтами. Хвостом вертанула, и ушла к новой своей любви, забрав с собою, нажитого в браке с Витькой сына. Витька по этому поводу и запил с горя, да остановиться вовремя не сумел, в результате чего – окончательно сошел с жизненных рельс. Родители его умерли рано, предостеречь от падения парня было некому. И друзей настоящих рядом не нашлось. Вот и горе теперь. А он горе это принял, вошел в него, освоился и принял за обыденную свою жизнь. Даже улыбается, смеется всегда, как сейчас. Над горем ли своим, над самим собою или надо всем на свете? – попробуй, сообрази теперь, да он и сам наверняка не хочет в это вникать. Но судя по его поведению, выбираться из своего горя он не собирается. Да разве он чем особенный? Какое число русских мужиков поспивались на сегодняшний день? От тоски черной да безнадеги. При Советском Союзе ничего подобного не было. Заметили, что хороший человек пропадом пропадает, вмиг бы общественность на ноги подняли. Даже силком одуматься заставили б. Или привлекли бы по статье за тунеядство. И не за зря, а вполне здравомысленно. Ибо, спасение человеческое всегда в труде. Трудись, трудись в поте лица своего, и Господь все твои горести забыть тебе поможет. А сейчас – кто кому нужен? Дикие законы капитализма. Человек человеку – волк. Кто его знает, быть может, и война из-за того к нам нагрянула, что мы друг дружке, как волки хищные сделались, о человеческой сути своей души забывать стали?
«Господи помилуй»! – перекрестилась с тяжким вздохом, Алексеевна.
Девица, скупившись, отошла. Ее место перед прилавком занял Прокофьев.
Витька воспринял вздох женщины по-своему разумению. И, еще шире улыбнувшись, сказал:
– Не боись, Алексеевна. Не сегодня-завтра войне конец. Около границы Российские войска скоплены, техники уйма, живой силы, должны скоро к нам сюда пожаловать. Российские миротворцы зайдут, разъединят нас с Украиной. Недолго терпеть осталось.
– Скорей бы уж! – снова перекрестилась, Алексеевна.
Витька Левченко, как и ожидала Алексеевна, пришел в магазин за водкой. Расплатившись за бутылку, сигареты, две банки кильки, сложил в пакет купленное и, донельзя довольный собой, пошел на выход, на прощание отсалютовав Алексеевне, снятой с головы, белой кепкой.
Из приемника теперь изливалось: «Танцуй Россия, и плачь Европа, а у меня – самая, самая, самая красивая попа…»
– Что заказывать будем? – прошелестела слабеньким голоском молоденькая девушка, невысокого росточка, с бледным личиком и надолго засевшим в глазах испугом.
Не удержавшись, Алексеевна сердобольно поинтересовалась:
– Страшно, дочка, здесь за прилавком целый день находиться?
– Страшно-то, страшно, бабушка, а работать надо. Пока нет обстрелов, выручку требуется для магазина хоть самую малость сделать. Хозяин завтра собрался за товаром по оптовым базам ехать, а касса почти пустая… – принялась было делиться тем, что лежит на сердце молоденькая продавщица, откликнувшись на участие в голосе Алексеевны, но спохватившись, что откровенничает практически с незнакомым человеком, виновато улыбнувшись, повторила вопрос:
– Что, бабушка, будем заказывать?
Первым делом Алексеевна выполнила просьбу старухи Сазоновой, сдачу после покупки положив не в кошелек, а в карман рубахи, чтоб не перепутать. Потом стала брать продукты для себя. Из товаров требующихся ей, на полках магазина покамест присутствовало все. Однако неизвестно, как с этим будет обстоять дело в дальнейшем, поэтому совсем не помешает скупиться «прозапас». Что Алексеевна и сделала.
– Спокойной смены тебе, дочка! Храни тебя Христос!
– Спасибочки, бабушка! Пусть и вас хранит!
Выйдя из магазина, Алексеевна постояла недолго на крыльце, глядя на «Богдановский» мост, перекинутый через русло Лугани. Сколько по нем было хожено, никаких запасов памяти не хватит. В школу, со школы, на работу, с работы. За мостом виднелись сероватые кубики домов частного сектора. Пройдя по проулку, между их фасадами, выйдешь в старый город. Парк «Первого мая», ДК «Железнодорожников», построенная пленными немцами, гостиница «Октябрь», кинотеатр «Комсомолец». Потом, через сквер с большим фонтаном в виде чаши, дворец «Дома техники». За ним – чуть-чуть выше пройти, парк «ВЛКСМ» – и центр города – улица «Советская», где располагался самый большой в городе базар, который так и назывался: «Центральный рынок». Немерено километров этой дорогой пройдено ею…
Алексеевна, перевязав наново, сбившийся с волос платок, сошла со ступеней на дорогу, и тронулась в обратный путь. Домой.
Сумка вышла тяжеловатой. Женщина периодически меняла руки. Солнце палило еще безжалостнее и било теперь прямо в глаза. Да и шагать сделалось труднее – в гору.
«Вот старость подкралась как внезапно» – подумала женщина, задыхаясь при подъеме. Раньше взлетела на гору и не замечала. Словно ласточка. И ноги были быстрее, и сердце стучало увереннее.
– Охо-хо-хо, годы мои, годы – прошептала она, продолжая путь.
В глубине города, ближе к центру, послышались автоматные очереди.
Алексеевна, услышав выстрелы, даже не вздрогнула. Она давно, помимо воли, привыкла к их звукам. Да и пожив на войне, Алексеевна стала соизмерять степень грозящей ей опасности по существу происходящего. Теперь, слыша где-то выстрелы, она автоматически отмечала – далеко или близко стреляют, а затем уж и реагировала на них, сообразно ситуации. А вообще, ей поначалу были непонятны свои собственные мироощущения – будто кино смотрела, перенесенное с экрана в повседневное бытие. Нет, и страшно, конечно, было, но вместе с тем, блазнилось, словно, понарошку все происходит – стреляют, воюют, убивают. Где-то в глубине души лелеялась и сберегалась глупая фантазия, в которой, на центральную площадь города внезапно выезжает на длиннющем черном лимузине мастистый, обвешанный венками голливудских премий кинорежиссер, и подает команду в звучный мегафон: «Стоп! Съемка окончена. Благодарю всех за участие!» И весь этот сегодняшний кровавый кошмар немедленно прекращается, и жизнь снова входит в нормальную колею, как будто ничего здесь такого не происходило и в помине… Но, в холодном рассудке она понимала, что это не киносъемки, это наша сегодняшняя реальная повседневность. Мертвые уже не оживут, у безруких не вырастут оторванные руки, у обезноженных – новые ноги. Идет война.
Алексеевна подумала о младшей дочери.
«Куда поперлась, дуреха?»
У Алексеевны было трое детей. Вышла замуж она в девятнадцать. В двадцать родила первенца, Андрея. Ему сейчас сорок семь лет. Проживает с семьей в Харькове. Работает на заводе мастером. Двоих сыновей вырастил. Трехкомнатная квартира в центре, загородная дача – целое барское подворье с большим огородом. Летом на ней с супругой живут, женатые сыновья внуков туда погостить привозят. Машина у него хорошая, иностранной марки. Люди уважают, друзья. Солидный человек, приятно глянуть, гордость берет за сына. Беспокоит только Алексеевну сейчас – на Украине мобилизацию объявили. Как бы Андрея, на старости лет, в солдаты не забрили и не направили в это чертово АТО, со своими земляками воевать. Сыновей, двадцати двухлетнего Егора и двадцати четырехлетнего Гену, он загодя выпроводил в Россию. В Ставрополье, к родне Натальи, супруги своей. Их не мобилизуют. А сам вот… Эх… Что с самим-то дальше будет?
Через полтора года после Андрея, родила она дочь Галину. С нее тоже вышел путевый человек, не трын-трава. И муж достался Галине серьезный: непьющий, мозговитый. В азарте Горбачевской перестройки рассчитался с Луганской обувной фабрики, где работал слесарем-наладчиком, открыл кооператив по ремонту обуви. Сам себе хозяином решил стать. В девяностые годы его бизнес шел ни шатко-ни валко, по причине того, что чересчур со многими нахлебниками приходилось делиться, лишь бы выжить да удержаться на плаву, а ближе к двухтысячным резко рванул вверх. На пару с компаньоном, Сашкой Громыко, оборудовали салон обуви в самом центре города – удачно и прибыльно. Через некоторое время, зять денег поднакопил, и открыл супермаркет, обособленно от Сашкиного капитала, выкупив здание бывшего гастронома, несколько лет простоявшее пустующим. Галину, дочку родную ее, в нем директором поставил. До 2008 года хорошо Галина с мужем жили, богато. В планах они предполагали дальше семейный бизнес расширять, но, неожиданно грянувший в две тысячи восьмом году, кризис спутал все их карты. Продавщиц некоторых пришлось сократить, Галина сама за прилавок встала. И директором в магазине, и продавцом – одновременно. Выдержали, бизнес из рук не упустили. И салон обуви, и супермаркет. По завершению кризиса стали их бизнеса опять обороты набирать. Сергей, зять ее, на дело был мужик хваткий, киоск на Восточных кварталах выкупил. Сапожника в нем посадил. Разумеется, сапоги, ботинки, туфли ремонтировать, да еще, дополнительно, в его киоске дубликаты ключей стали изготовлять. Но тут неожиданно кавардак Майданный на Украине наступил, а потом уж война черным горюшком по стране разлилась. В Луганске в результате «Русской весны», борьбы за правду и справедливость – не пойми что начало твориться – революция настоящая. У кого бизнес прибыльный на виду был, а покровительство высокое в Киевских или Московских верхах отсутствовало – тем жизни совсем не стало. На войну слишком многое сделалось возможным списать. Галина с Сергеем, хоть и не богачи несусветные, решили, от греха подальше, в Россию уехать. Чтоб не соблазнить никого собственной зажиточностью. Сашка Громыко тоже уехал. Он в Киев поддался. Бизнеса свои на доверенных людей оформили, и уехали. Выбрались из Луганска благополучно, а все равно переживают, сохранится у них что-то после возвращения, или превратятся они в голь перекатную, при седых волосах, оставленную у разбитого корыта революционерами. Но Алексеевна полагала, вдруг и растащат их добро – ничего, плохо, конечно, но ничего страшного. Если Богу будет угодно, наживут не меньше – еще при силах, при уме крепком. Все предпочтительнее, чем здесь от каждого стука в дверь от страха обмирать. Мало ли чей завидущий глаз привлекут? Пусть пока в России побудут, береженного Бог бережет.
А Светлана, о которой она беспокоилась, была ее младшей дочерью. Вот эта с детства росла непутевой. Вертлявая вокруг оси, что юла. Егоза натуральная. Муж Алексеевны, покойный ныне, все баловал ее, потакал шалостям. Младшенькая. Ведь родила ее Алексеевна в тридцать лет почти. Потому и жальчее всех Светку было. И вырастили в итоге себе сплошные переживания. Восьмой класс еле-еле душа в теле закончила. В ПТУ пришлось отдавать, чтобы без среднего образования деточка не осталась. Помнится, сколько она Степана своего просила – построже со Светкой. Чтобы, как отец, как мужчина, наконец, соответствующей строгостью подействовал на ее вразумление. А он ее все увещевал да совестил. На что Светке было хоть бы хны. Попритихнет ненадолго, и опять за свое. И курила, и занятия в училище прогуливала, не единожды за нее приходилось перед мастером-наставником в учительской ПТУ краснеть. С ребятами начала допоздна гулять – женихи вместо учебы с ранних девичьих лет у нее на уме лишь одни и водились. Правда, до позора, кажись, дело не дошло. Замуж ее в восемнадцать лет выдали. Взял Светку парень местный, камбродский, Валерка Трофимов. Высокий, симпатичный на внешность, работящий, из хорошей семьи. На три года старше Светки был. На заводе они познакомились. Светка там практику после окончания ПТУ проходила, а Валерка, только-только демобилизовавшись из армии, работал фрезеровщиком в одном с нею цеху. Через полгода после свадьбы купили они двухкомнатную квартиру на Заречных кварталах, в недавно построенном доме. Около пяти лет Светка с первым мужем в браке пробыла, и развелись они по причине несовместимости характеров. Сына с ним нажила. Никиту. Сейчас мальчишке шел четырнадцатый год. Переписал Валерка при разводе свою долю в квартире на сына, а сам уехал на заработки в Карелию. Несколько лет в северных краях провел. Вернувшись обратно, на заработанные деньги дом в Камброде построил. Сказал, хочу в своем собственном дворе жить, где буду полновластным хозяином, а не во многоквартирном скворечнике, одним из ответственных квартиросъемщиков. (Чего скрывать, несмотря на то, что Светка с Валеркой развелась, Алексеевна при встрече от бывшего зятя лицо не отворачивала, общалась с ним вполне по-дружески). В дом к себе хорошую женщину привел, женился, сын у них родился. Однако и Никиту не забывает, первенца своего, в прежнее время дитю помогал, и теперь продолжает помогать, несмотря на Светкины выкрутасы. Порядочный мужик оказался, с совестью и добрым сердцем. Но не оценила его Светка, не достойным он ее любви ей показался, хоть ты тресни тут. Сама женихов, после развода с Валеркой, как перчатки меняла. Превратила свою квартиру в сущий вертеп. И она, и Степан, пока не заболел, ездили к ней с инспекциями, призывали взяться за ум, не позориться ни самой, ни родителей на старости лет не позорить. А она – послушает, послушает, и в крик, как оглашенная: «Не мешайте мне жить! Моя жизнь, как хочу, так и буду ее проживать»! И хоть кол ты ей на голове теши! Со стажем трудовым у нее тоже не совсем гладко складывалось. По ее же собственной вине, вернее, в согласии с ее жизненными принципами. Нигде она за место крепко не держалась. Чуть что ей не по нраву, заявление на увольнение начальнику на стол, и другую работу бегом искать. Деваха она у них вышла на личико смазливая, формами фигуристая, притвориться овечкой, когда ей зачем-то требуется, неплохо умеет – без работы надолго никогда не засиживалась. И саму Алексеевну, и мужа ее, поражало подобное отношение дочери к работе. Непутевая! Ох, непутевая! Алексеевна всю трудовую жизнь на одном заводе, в одном и том же цеху проработала, с рабочим коллективом своим до такой степени сжилась, чуть ли не родней их всех считала – столько лет вместе. И Степан ее тоже, как с армии на завод демобилизованным из десантных войск пришел, так на одном месте и держался до самой до пенсии. А что за Светку говорить? Галина к себе в магазин младшую сестру по материной просьбе взяла работать. Менеджером, товароведом – по советски. Натерпелась от Светкиной безответственности, сердечная. Бессчетно ей жаловались сотрудники на непутевую сестрицу. То работу прогуляет, то упустит выгодных клиентов, то сделку важную сорвет. Все из-за характера вздорного. Прынцесса эдакая на горошине, тутти-фрутти! А опаздывать – почти всю дорогу на работу опаздывала. Галина терпела долго, выходки ее от мужа покрывала, наплакалась – жалко ей было непутящую. Но в итоге, все равно попросила ее на выход, допекла все-таки сестрица до белого каления. Так та еще и обиду затаила на Галину. Года два не здоровались, не разговаривали. Едва помирить их удалось.
Несмотря на вздорный характер, вышла Светка и второй раз замуж. За хорошего мужчину, Николаем звали. Взял Светку с ребенком. К мальчишке, к Никите, как к родному привязался. Сам он, аналогично Светке, разведенным был. Алименты бывшей жене платил. Куда ж денешься, если не только по закону должен дитю своему помогать, но и по совести. Жили Николай со Светкой хорошо, доброй семейной жизнью. Алексеевна на Светку нарадоваться не могла, что дочь за ум взялась. Зять со Степаном, ее мужем, легко подружились. Оба оказались заядлыми рыбаками. Вместе на рыбалку ездили. Часто даже с ночевкой. Жили Николай со Светкой хорошо, жили, потом вдруг Светка опять испортилась. Завертела хвостом. Дома у них скандалы завелись, ругань. На целых полгода их семейная драма растянулась. Зять при встречах жаловался, что не понимает, как женушке угодить: он к ней и так, и эдак, и Светочка, и Цветочек, все к ней по-хорошему, по-ласковому, а она на него только рычит днями напролет. Все что Николай не делает, ей, негоднице, не по нраву. Дошло до того, что дышит даже не так. Терпел мужик до последнего. И Светку, видать, любил жутко, заразу. Красивая у Алексеевны дочка все-таки, ничего не скажешь. Но всякому терпению приходит предел, не выдержал Николай свинского к себе отношения, ушел из семьи, развелись. Много позже Алексеевна проведала, что путалась тогда ее Светка с этим бандеровцем, нынешним своим сожителем. Как Николай от Светки ушел, они долго и не скрывались, между прочим. Поначалу хитрый бандера к свежеиспеченной разведенке по ночам бегал, соседи заприметили. А месяца два после ее развода прошло, он к Светке и насовсем, с вещами, перебрался. Алесеевна этого вражененка иначе, как бандеровец или бандера за глаза и не называла. Даже в разговоре со Светкой.
Вася, Васыль был родом с Западной Украины. Откуда-то с Тернопольщины. Волос черный, лицом смуглый, глаза тоже черные, и, как казалось Алексеевне, всегда злые. Хотя, если по правде признаться, чего греха лишнего на душу брать, быть может, что глаза у него злыми ей только лишь казались. Просто-напросто, Алексеевна изначально была настроена на Васыля недружелюбно. Не любила она бандеровцев (Алексеевна так называла всех жителей Западной Украины) с детства, пожалуй, со скольких лет себя помнила. Отец-фронтовик, служивший в Галичанских краях после окончания войны, рассказывал, как бандеровцы жестоко убивали милиционеров, учителей, комсомольцев, коммунистов. Зайдут в село ночью, зарежут или зарубят топором кого им командир их прикажет, и в лес, обратно в схроны запрячутся. До пятьдесят шестого года Советская армия с этими ночными душегубами воевала. «Злые они, злые, и русских дюже люто ненавидят» – многажды повторял ей отец, и наказанное им предупреждение врубилось в ее память намертво. На целых десять лет бандеровец младше ее Светки был. Все равно она, бесстыжая, с молокососом сошлась. «Самка» – аттестовал после этой выходки Светку Галинин муж, Сергей. Ой, до чего ж непутевая! Сплошное горе с нею беда. В кого только она уродилась?! Ни по ее родовой линии, ни по Степановой – девицы подобного поведения никогда не водились. На десять лет! Зрелого, во всех отношениях положительного мужчину на юнца сопливого разменяла. Сопливого, но гонорошистого. «Я сказав» – и «усэ» на том. Впоследствии, когда Анечку они нажили, Алексеевна слегка помягчела к Светкиному новому мужу. Но душа к нему не лежала, ее не уговоришь рассудочно. Что тут с собою поделаешь? Чувствовалась сильно в Васыле кровь чужая, не нашенская. Иногда, по-волчьи, из-подлобья, как глянет на тещу родную, у нее и сердце в пятки уходит. Нет, право слово, чисто волк. Чуял, поди, что не любит его теща, отсюда и лютость, наверное. Работал, бандеровец, ничего не скажешь, молодцом. На работу – ярый. А когда Анечка родилась, на вторую работу устроился дополнительно, чтоб «усэ було нэ гирш, ниж у билых людэй».* Светка жаловалась, что мужа дома почти не видит, и заметно скучала по нем. А тот – все высматривал, где бы, в каком месте к семейному бюджету еще добавочную гривну заработать. Трудяга – каких поискать. Двужильный. Но характер… Нелюдимый был сам, и от Светки ее друзей-подруг поотваживал. Не подходящими для дружбы они являлись на его взгляд. Исключений ни для кого не сделал, в каждом из них бдительно неизвинимую червоточину обнаружил.
Проявил он себя окончательно, всю свою сущность, во всей красе фашистярской, после того, как в Киеве его земляки Майдан учинили. Обрадовался. Кричал, «нарэшти у Европу вийдемо, в Евросоюз. Банду з влады выгонэмо, хабарив та злодиев! Скильки можлыво знущання над чэсными працивныкамы тэрпиты? А колы люды праци во владу придуть, вжэ чэрэз рик вы нашу краину нэ впизнаетэ, розквитнэ, як чаривна троянда!» * Спорили с ним яростно – во рту сухо становилось, даже плюнуть в бандеровскую его морду было даже нечем. И Светка с ним цеплялась. Скандалили с ним сутки напролет, и только когда за развод было заговорили – он затих, примолк, но как потом обнаружилось, лишь притаился. Себе на уме стал, осторожничал. Но когда в городе затеялись манифестации и митинги за права русскоязычных, за Россию, бандера снова возбудился – стал шипеть, не переставая: «Що цэ такэ?.. Навищо нам Россыя, якый Таможенный союз?.. Вы що зовсим подурилы? Навить розмовляты про цэ – дэржавна зрада… Украина – сувэрэнна Европэйська краина…»! Мужики камбродские, было дело, как-то хотели ему бока намять, услышав подобные его речи в магазинной очереди. А как Луганское СБУ со складом оружия в нем наши ребята-десантники захватили, он неделю туда на площадь к СБУ ездил, ночевал там – может чего вынюхивал – неделю после еще дома посидел безвылазно и уехал из города. Как призналась впоследствии Светка, бандера и ее уговаривал вместе с ним к его родителям ехать. Мол, здесь, в Луганске, через малое время второй Сталинград разверзнется. Всю неделю, что он дома сидел, скублись супруги на почве политических разногласий, почти не расцепляясь. Бандера, вдобавок к ругани, руку на Светку поднял, чего за ним не водилось отродясь. Но из Луганска он отбыл сам. Из Светкиных телефонных переговоров с ним узнали, что в родных краях попал он под мобилизацию, призвали Васыля на АТО. Когда его воинскую часть в Старобельск перекинули, занялся вплотную Светку на свидание зазывать, якобы, для важного семейного совета. По нескольку раз на день по телефону переговаривались. Светка заметно похудела в последние дни, частенько о чем-то задумчивая ходила из угла в угол.
«Ой-ее-ей! Говорила, дурехе, не связывайся с бандерой, не послушалась. Теперь дитю без отца расти… А вдруг и без матери?!» – пронзила ее сознание ужасная по содержанию мысль.
Трое суток тому назад как выехала Светка в сторону Старобельска. С того дня, почитай, нет с ней связи, и ее телефон молчит.
«Что думать? О чем гадать? Мало того, что война, не только из автоматов, а из пушек и танков по людям стреляют-палят почем зря, так еще злыдней – не пересчитать, на белый свет повылазило, удобный момент для поживы почуявших. В мутной-то водице. Для них жизнь человеческая и копейки не стоит. Ох, горе»!
Анечку, перед тем, как отправиться на свидание со своим «фашистским» возлюбленным, Светка к ней завезла, побоялась с собою в дорогу дитя брать. Анечке три годика всего, несмышленыш совсем. Никита, на время покамест матери дома не будет, к отцу отпросился. Давно, дескать, в гостях не был, соскучился.
«Оно и понятно, родной отец для него, не бандера какой-то!» –недобрым словом опять вспомнила своего последнего зятя, Алексеевна.
Сердце поколачивало в грудную клетку сильнее обычного. Давненько ноги Алексеевны не задействовались столь ходко в ходьбу. А где ноги, там и сердце рядом. Поторапливалась, опасаясь, вдруг обстрел нагрянет неожиданно, а она посреди улицы, что в чистом поле колосок. Потому и спешила. Поближе к дому родному, под защиту его стен. И если уж умереть сегодня суждено, дома – во сто крат спокойнее.
Сумка тяжелая. Устала.
Все-таки решила потерпеть, добраться до двора Захаровны, около него и отдохнуть.
Старуха встретила ее с радостью необычайной, будто Алексеевна могла не вернуться обратно.
– Купила, Любочка?
– А как же? Все сошлось, согласно заявкам трудящихся – ответила Алексеевна, выгружая на отполированную частыми сидениями поверхность доски полкилограмма докторской колбасы, кулек с конфетами, сверху на кулек положила два батона хлеба.
– Люди что говорят? С кем виделась? А то я сижу здеся, что пень прелый, только издали на людей посмотреть могу. Пень он и есть пень, никому до него интересу…
– Да и ни с кем особо. Людей на улицах нет почти. Разве что с Витькой Левченко поговорили…
– Пьет так же день-деньской, небось?
– Пьет… Что ему сделается?
– А сейчас мужиков в армию рази не призывают? Война как-никак…
– Да вроде нет… Только добровольцы идут…
– Да-а-а, – размыслительно протянула Захаровна: – Как и не война будто. Будто и не настоящая. На войне всех мужиков под ружье подымали б… А я посмотрю, много мужиков взад-вперед бродят неприкаянными… Не призывают их, значица…
– Гражданская война, Захаровна, это другое… Между своими… Ладно, побегу я?.. Заскочу как-нибудь к тебе в гости, чаи погоняем, посудачим о том, о сем… Анютка дома… Опару на пирог поставила…
– Беги, Любочка… На, внучку конфеткой угости – и Захаровна протянула отзывчивой женщине горсть карамелек, зачерпнутых ею из кулька.
Алексеевна взяла, поблагодарила за угощение, и со словами: «Береги себя, Захаровна», обняла старуху за плечи и поцеловала ее в дряблую морщинистую щеку.
Выходя на дорогу, женщина увидела силуэт, поднимающегося по ней, высокого сухощавого мужчины, одетого в темно-зеленную камуфлированную форму. На правом плече у него висел, стволом вниз, автомат.
Она замерла на месте, как вкопанная, опустив сумку с продуктами на землю возле своих ног. Стала внимательно смотреть.
Тревога когтисто сжала ее сердце. Кто он, этот вооруженный человек, идущий по ее улице. Свой или чужой?
Но присмотревшись, перевела дух, узнав, бодро шагавшего в гору человека. Коля Анисьев, парень двадцати двух лет, из соседского двора по правую руку.
Не доходя до женщины метров пяти, Коля улыбнулся ей во весь рот, сверкнув белыми, словно из слоновой кости, не прокуренными табаком зубами.
– Здравствуй, Алексеевна!
Вместе с улыбкой радовались его глаза, искрящиеся, счастливо кричавшие, что Коля Анисьев безумно рад, что его соседка жива, здорова, и только что встретилась ему на родной улице.
– Здравствуй Коля! Здравствуй дорогой! – так же счастливо улыбнулась ему в ответ женщина.
Глянув на объемную сумку, стоявшую около нее, сосед сразу предложил свою помощь.
– Давай, Алексеевна, подсоблю провиант доставить?
Женщина, не скрывая своего удовольствия от услышанного предложения, согласно кивнула головой. Поскольку, и вправду, тяжелая сумка уже изрядно натрудила ей руки.
Парень легко подхватил за ручки сумку, и пошел вперед. Алексеевна старалась держаться рядом с ним, семеняще подстраиваясь под его широкий шаг.
При ходьбе макушка Алексеевны подпрыгивала ниже уровня плеча молодого соседа.
– Коля, неужто, ты в ополчение вступил? Ни мать, ни отец ничего мне не говорили…
– Ага – тронула Колькины потрескавшиеся губы улыбка, потом они резко натянулись в жесткую, узкую линию: – Сразу на следующий день, как укропы администрацию нашу бомбили… Я неподалеку от места событий находился, около «Центрального рынка». Слышу, грохот в небе. Потом люди побежали, кричат, дескать, ракету выпустили по штабу ополченцев. Я туда. Прибежал, еще оцепление не успели выставить. Первое, что в глаза бросилось, несколько изуродованных тел женщин, убитых прямо возле ступеней обладминистрации. Ветки поломанные на дороге и по парку валяются. Ополченцы бегают, из здания раненых выносят. С третьего этажа, куда ракета ударила, дым столбом валит. Крик, мат, слезы. Ополченцы начали зевак от здания отгонять. Меня не тронули, потому что с Пашкой Сухомлиновым стоял. Как бы свой получилось…
– Пашка тоже в ополчении? – удивилась Алексеевна.
Жившего от нее через три дома Пашку Сухомлинова, она всегда держала в картотеке своей памяти за непутевого. Даром что мать – учительница. Крикливые компании вечно около двора, мотоциклетный треск, девки визжат, музыка на всю округу допоздна.
– Пашка в русских патриотах один из первых… Как СБУ захватили, с того дня с автоматом и спать ложится. Понравилось ему в ополчении. Говорит, это жизнь настоящая, живая жизнь, с истинным неподдельным драйвом. Обывательщина ему обрыдла, хуже горькой редьки. Пашка из идейных…
– Пашка? – снова удивилась Алексеевна. Идейных людей она почему-то представляла себе совсем другими. Хотя какие они, идейные люди, понятие имела весьма смутное. Но Пашка в эти ее догадки однозначно не вписывался ранее никак.
– Ну да. Клятву он дал, пока в Киеве фашистскую власть не скинем, оружия из рук не выпустит. И я, Алексеевна, когда увидел тогда беспредел укроповский, понял, что нужно мне, если я мужик, а не баба в штанах, вступать в бойцы сзываемого городом ополчения. Нельзя этим гадам Луганск отдавать. На следующий день после авиа-налета, поехал в областной военкомат, и записался в батальон «Зарю». Мужиков в тот день к военкомату много приехало. Преимущественно, в возрасте, пацанов молодых числом куда помене.
Колька поправил на плече ремень автомата, подчеркивая произведенным действием, что он вооружен, что он воин. Явно этим обстоятельством гордясь. И немножко, по-мальчишески рисуясь. Он же видел, что люди вокруг смотрят на него, как на героя, с уважением. И что там заниматься самообманом, ему это льстило. Но в чем здесь неправда? Колька Анисьев не стал осторожничать, выжидать, чем все закончится и кто, в конце концов, победит. На его землю шел враг, и он встал на ее защиту, как подобает настоящему мужчине. Ведь ныне, благоденствуя в обществе всеобщего потреблятства, мы как-то подзабыли, что главное жизненное предназначение мужчины – защитник. А все ли подобно ему поступили, все ли вспомнили о своем священном долге перед родной землей? Все ли мужчины Луганщины поднялись на правый бой, как исстари на Руси было заведено? Нет. Из Колькиного класса только он один в ополчение и вступил. Остальные – или из города разбежались, или по подвалам при укроповских обстрелах вместе с бабами, стариками немощными да детворой малолетней прячутся. А он – нет, не струсил, пошел воевать – Колька любовно погладил цевье автомата Калашникова.
Помимо долга перед отчей землей, Колька Анисьев почти сразу распробовал на вкус в своем поступке благо и для себя лично. Незнакомого ему прежде ощущения внутреннего духовного возрастания. После получения в руки личного оружия, после участия в боях, он сам чувствовал, слышал в себе, насколько он стал другим человеком, намного зрелее себя еще вчерашнего. За два неполных месяца, его душа приобрела себе в опыт сразу нескольких лет Колькиного будущего возмужания и житейской умудренности (еще б когда ей предстоявших?). В Кольке зажила совершенно другая энергетика, нежданно пробудившаяся в нем. Он чувствовал, словно каждая клетка его организма бурлила обновленной силой и, дополнительным к прежнему, энергетическим потенциалом. Он сделался многократно сильнее внутренне. И вот, что еще любопытно, он ощущал себя так, будто нынешнее его состояние духа – быть воином – не являлось для его натуры ничем новым, неизведанным, будто оно всегда пребывало в нем. Не иначе, как случилось это преобразование непосредственно в самом составе его крови, на генном уровне, и в его личностный опыт незаметно врос опыт его предков – русских воинов, героев Куликовской битвы, Полтавской, при Бородино, обороны Брестской крепости и битвы за Берлин. В его венах сегодня бурлила кровь предков-воителей, привыкших не покоряться, а побеждать. Своим духом он сблизился с ними, сросся – их былая сила стала его силой.
– Не страшно, Коля? Ведь погибнуть запросто можешь или калекой стать? Не приведи, конечно, Господи! – на ходу перекрестилась Алексеевна.
Она едва поспевала за спешащим домой солдатом, быстро переставляя, до звона по венам гудящие от скорой ходьбы, ноги. Чуть-чуть от него отстав.
Колька, услышав потяжелевшее дыхание соседки, заметно сбавил шаг.
– Не страшно. Все равно, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Там, Алексеевна, бояться некогда, воевать надо, фашистов бить – браво ответил молодой ополченец.
А страшно иногда Кольке делалось. И не один раз. Кому охота умирать в двадцать два года? Особенно ему бывало страшно, когда где-то рядом укропы накрывали по площадям противника «Градом». Так называется установка залпового огня, что-то типа знаменитой «Катюши», только модификацией современнее. И тогда земля дыбом становилась, а небо обрушивалось на землю. Было страшно. Но при чем здесь страх, когда на линии обороны стоять надо накрепко, чтобы враг дальше не прошел? Если понадобиться, насмерть стоять. И страх свой перебарывать, перековывая его в несокрушимую волю в победу и жгучую ненависть к врагу. Как и положено настоящему воину. Именно такими словами учил новобранцев на краткосрочных «курсах молодого бойца» в Луганском военкомате «Афган» – их нынешний командир роты. А уж этот человек знал, что говорит. И позывной ему не наобум лазаря назначали. Без малого три года он в Афганистане оттрубил. Он там мотострелковой ротой командовал. Там майорскую звездочку получил, орден «Красного знамени» и две нашивки за ранения. Боевой офицер. Что и говорить, повезло им с ротным. Бесподобно повезло. Но страх смерти как-то отдалено звучит, а вот стать калекой – этого Колька жутко страшится. Насмотрелся на них уже вдоволь. На безруких, на безногих, а то и вовсе на какие-то человеческие обрубки говорящие. Случись если, кому потом нужен будешь? Лишь только матери с отцом до скончания века обузой сделаешься. Однако, Алексеевне, его соседке, о том, что бойцу народного ополчения Луганска, Николаю Анисьеву, бывает страшно – знать необязательно. Да и другим гражданским в том числе. Нет в ополченцах страха, а только отвага и мужество. В своих защитников должны верить те – кто остался у них за спиной – непоколебимо.
– Не страшно – снова повторил Колька. Тверже, чем в первый раз, и голосом пободрее. Специально проследил.
– Мать-то как с отцом отнеслись, что ты в ополчение пошел? – Алексеевна взглянула на Колю с нескрываемым уважением в глазах. На Колю, которого она знала еще с тех пор, как его мать, Варвара, с ним в коляске по улице прогуливалась. На ее глазах рос. А теперь посмотри на парня – солдат. И возмужал, и посерьезнел. И какие спокойствие, уверенность и сила от него исходят!
– С пониманием – коротко ответил Коля.
Хотя с пониманием дело обстояло совсем наоборот. Мать, после его известия об уходе в ополчение, сразу в слезы ударилась, отец рявкнул: «Дурак, куда полез»?! Потом они его долго отговаривали от объявленной им «идиотской» затеи. Мать – слезами и причитаниями. Отец – криком и матюками, с постукиванием кулаком по столу. Однако, не поддался. Правда, попозже, видя, что он решился бесповоротно, благословили идти. Мать тормозок* в рюкзак ему собрала, трижды расцеловав его, иконку с «Божией матерью» в дорогу дала. Отец обнял на крыльце дома крепко, до хруста в кости, и напутствовал, по-отечески: «Николай, не посрами в бою фамилию».
– Родители мои дома, Алексеевна? Не видела?
– Мать с утра огород поливала. А отца – нет, не видела сегодня. Вроде как из дому не выходил. Может, проглядела?.. А вчера видела. Он с работы по улице возвращался.
– Повидаться хочется, соскучился больно уж. На пару часиков всего у ротного на побывку до дому отпросился.
– Повидаешься. Дома твои должны быть – обнадежила его соседка.
– Эх, Алексеевна, твои б слова да Богу в уши!
– Коля, а война скоро закончится? Долго нам еще этот ужас терпеть?
– Не знаю, Алексеевна… Сейчас бандеровцев отобьем от Луганска, затем дальше их погоним. Мариуполь, Харьков, Запорожье, Одессу освобождать будем. Люди нас там ждут! Потом до Киева, а то гляди и до самого Львова, в логово к бандеровскому зверю, докончить с ним уже навсегда… Эх, жаль, техники у нас маловато, танков, БээМПэшэк разных, систем залпового огня. Давно бы в контрнаступление ударили.
– Бедные люди! – вырвалось у Алексеевны. Но не совсем было понятным, кого конкретно она имела ввиду, то ли Луганчан и Дончан, то ли в целом жителей всей Украины без остатка: – За что страдания горькие и разруху жизни принимать приходится.
– Америкосы воду мутят. Сначала в Киеве Майдан организовали, Януковича с престола скинули, а потом за счет одурманенного народа фашистскую хунту к власти привели. Но им мало показалось, они решили Донбасс на колени поставить. Но не тут-то было, не на тех ребят, поганцы, нарвались! Наши парни из стали и гранита. Не прошибешь!
– Своей Америки им будто мало? Чего к нам им лезть?
– Норов у них разбойничий, Алексеевна, жадные они до чужих земель, до чужого богатства.
– Уж мы-то и богатые?! – всплеснула руками женщина, потом в сердцах ударила ими себя по бедрам: – Уж местные князьки, мне кажется, все им отсюда повывезли. Все наши богатства с их помощью перекочевали давным-давно за бугор, на банковские счета – в Америки да Швейцарии разные. Здесь одни крохи остались, по сравнению с тем, что туда переправили.
– Видимо, они по-другому думают. Считают, есть у нас, что еще пограбить. Кроме того, им бандеровцы за поддержку военные базы пообещали на территории Украины оборудовать. Так что мы сейчас не только за Луганск, но и за всю Россию оборону держим.
– Молодцы, ребята! На какой подвиг пошли, своих жизней не пожалели! – восторженно воскликнула Алексеевна. Искренне. От всей русской души.
– Нам деваться некуда, надо стоять. Не допускать же сюда фашистов, чтоб они вторую Одессу* у нас дома, здесь, в Луганске устроили.
– Звери! Хуже зверей – с неослабевающим эмоциональным накалом воскликнула Алексеевна.
– Ага, укропитеки! Древние и дикие!
– Ужас! Где они столько фашистов на Украине насобирали, неужто все наши, украинцы? – спросила женщина у более сведущего человека, чем она.
– Они – украинцы, а мы теперь русские. Закончилась для нас уже на сегодняшний день Украина…
– Да, да – чересчур быстро согласилась Алексеевна: – После всего, что было, конечно… – и она опустила голову. Больше вопрос свой не возобновляла, хотя ей так и осталось непонятным, откуда нашлось в их стране совсем немалое количество людей, способных со спокойной совестью убивать своих сограждан.
– Пусть они сами в такой Украине яснують*, со своими Мазепой, Петлюрой, Бандерой и Шухевичем – в обнимку. И пускай скачут, дурдомовцы, сколько душеньке их пожелается, но только уже без нас. Хоть обскачутся пусть… Дурдом и дикость, злоба неискоренимая… Не добили эту нечисть в сорок пятом наши прадеды, теперь нам придется эту работу за них доделывать.
– Я как Майдан засобирался, заскакал – сердцем почувствовала, добром не закончатся эти европейские скачки. А уж когда милиционеров стали бить смертным боем на глазах у всей страны… Вот скажи, Коля, ты понимал что-либо тогда? Я – нет… Ребят бьют, измываются над ними, позорят на всю страну, а они чуть ли не по стойке смирно стоят перед распоясавшимися молодчиками… «Беркут»! Это ж спецназ! Там же орел на орле служит, ребята, нарочно отобранные по конкурсу. В мозгах ничего не укладывалось, как такое может происходить? Почему обученные спецназовцы не делают укорот бандитам и хулиганам? Потом фашистские морды каждый день по телевизору показывают – то Тягнибока, то Яценюка, то боксера этого, гирей чугунной трижды контуженного, Кличка… Я Сергею, зятю своему, говорю: «ну что доболелся за фашиста?», а он досадливо рукой от меня отмахнулся и говорит: «все они фашисты, когда им там скажут» и показал пальцем в потолок. Видела, неудобно ему было за былую спортивную наивность и теперешнее уразумение того, как Кличок всех своих поклонников за нос водил. Чемпион чемпионом, а отпетым фашистякой оказался… Я весь Майдан смотрела, ни одного дня не пропустила, и утренние, и вечерние трансляции.
– Я тоже смотрел… И тоже удивлялся, что ментов, как первоклашек недотепистых уличная шпана колотит почем зря. Но еще больше удивлялся тому, в каком ракурсе этот форменный беспредел преподносят Украинские СМИ. Один их истошный вопль на весь мир «они же дети» – чего только стоит! Очень удивляло, что эти показы никем не контролируются. Как будто, никакой над ними цензуры надлежащей не имеется. Ладно, когда частные каналы, можно было бы как-то понять, а смотрю, каналы как будто государственными считаются, а политику показывают явно вредительскую. Не понимал, кто позволил так показывать, с антиправительственными ракурсами изображения. Что за фигня, думаю, налицо – явная государственная диверсия со стороны телевидения, однако на нее работники СБУ никак не реагируют, не пресекают.
Услышав версию Кольки, Алексеевна даже остановилась, чтобы ее переосмыслить. Ни ей, ни ее знакомым ничего подобного в голову раньше не приходило.
– Неужто и телевизионщики вместе с бандеровцами в заговоре против Президента были?
– Похоже на то. Их настоящие хозяева не из здешних краев. Не зря наше телевидение знающие люди зомбовидением называют. Зомбируют нас пиндосы, Алексеевна, на нужный им результат.
Видя на лице у соседки озадаченное выражение, Колька снисходительно улыбнулся, и сказал:
– Да ладно, Алексеевна, не заморачивайся. Долго объяснять. Да и не в том сейчас вопрос. Фашистов нам все-таки показали, не укрыли от нас, на кого б телевизионщики не работали.
На лбу у Алексеевны тотчас разгладились тяжелые складки, и она с воодушевлением подхватила, вернувшийся в знакомые берега, разговор:
– Это точно! Как того Тягнибока или Фарионшу покажут по телевизору – ну фашистяры чистой пробы, без примесу! Откуда эта лютая ненависть у них к нам, русским, москалям – по-ихнему, мы же с ними в одной стране десятки лет бок о бок живем, одним народом Украины привычно считаемся?
– От недобитков их дедушек по наследству перешла, со схронов бандеровских еще сбереженная.
Источник: http://likorg.ru/post/iyulskaya-speka-rasskaz-chast-pervaya-dmitriy-yudkin

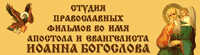
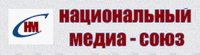


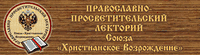






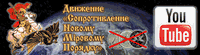
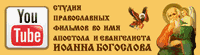
 Печать
Печать